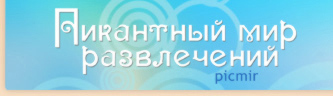ТОП - публикаций
Посмотреть все
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ
Новые комментарии
Любительское видео
Любительское фото
Остальное Видео
Остальное Фото
Разное
Сайт
Последний Зной Лета
![]()
Разное » Порно истории
| Дата добавления | 2025-04-26 |
| Автор | Berlusc0ni |
| Комментариев | 0 |
| Просмотров | 262 |
| Голосов | 6 |
| Рейтинг | 7.8 |
"Последний Зной Лета"
Жара висела над городом плотным покрывалом, пропитанным ароматом перезрелых яблок и пыльных штор. Воздух дрожал, как струна перед разрывом.
Эдуард спал, краем уха слыша, как группа учеников жмётся под его липой. Их смех резал слух — слишком звонкий, слишком юный. В трусах возникла утренняя эрекция, будто пытаясь удержать то, что уже выскальзывало сквозь щели в ставнях.
Людмила распахнула окно спальни, впуская зной внутрь. Полотенце соскользнуло на пол, и она не стала поднимать. Сегодня утром зеркало показало ей не морщины, а карту былых побед — шрам от кесарева сечения как отметина смелости, растяжки как дороги к материнству. Внизу зашевелились тени. Она улыбнулась, проводя ладонью по животу: "Сколько им? Шестнадцать? Семнадцать? Возраст, когда страх пахнет потом и спермой..."
Артём поправил гитару на спине, чувствуя, как пот стекает по позвоночнику. Его кроссовки выписывали восьмёрки на асфальте — три шага к подъезду, два назад. Ваня толкнул его в бок, показывая на окно третьего этажа, где мелькнула тень. "Не она... Не может быть..." — но сердце уже колотилось в ритме, для которого не было нот.
Солнце полностью взошло, когда первый крик сорвался с чьих-то губ. Не восклицание — предвестник.
"Утренний спектакль".
Лето ворвалось в комнату тяжелым дыханием рассвета. Я потянулся к простыне, еще теплой от ее тела, но нашел только смятую подушку. За окном, сквозь шелест лип, доносились приглушенные возгласы — словно стайка воробьев затеяла перепалку. Прислушался:
— Глянь-ка, сиськи-то какие...
— Да она ж голая!
Смешок, приглушенный, но звонкий.
Сердце забилось чаще. Босые ступни коснулись прохладного паркета. Взял телефон — привычный рефлекс, будто собирался снимать котиков, а не...
В соседней комнате дверь приоткрыта. Полоска света лежала на темном полу, как лезвие. Подкрался, затаив дыхание.
Она стояла на подоконнике, спиной ко мне. Утреннее солнце обнимало ее тело золотыми лентами: подсвечивало рыжие волосы, струящиеся по спине, играло на округлостях ягодиц, задерживалось в ямочках над копчиком. Руки, поднятые для равновесия, подчеркивали изгиб талии — той самой, за которую я держался вчера, когда она стонала подо мной.
— Эй! Покажите анфас! — донеслось снизу.
Людмила повернулась медленно, будто танцуя стриптиз на краю пропасти. Грудь, отяжелевшая за годы, но все еще гордая, колыхалась в такт движению. Ее ладонь скользнула вниз по животу, остановилась на лобке, где рыжие кудряшки блестели, словно мокрые от росы.
— Офигеть... — чей-то сдавленный стон внизу.
Ее лицо, обычно бледное по утрам, пылало румянцем. Губы, припухшие — может, от укусов вчерашних? — растянулись в улыбке, которую я не видел годами. Точно так же она смеялась в наш медовый месяц, когда я снял с нее свадебное платье под крики чаек.
Телефон дрожал в руке. Я включил камеру, поймав в объектив:
— Тень ресниц на щеках
— Капли пота в ложбинке между грудями
— Мальчишку лет шестнадцати внизу, застывшего с открытым ртом
Она заметила движение. Повернула голову, поймала мой взгляд в дверной щели. Не испугалась. Не прикрылась. Наоборот — выгнулась сильнее, одной рукой сжимая грудь, другой касаясь клитора.
— Снимаешь, дорогой? — голос звучал хрипло, как после долгого курения. — Добавь фильтр... Чтобы растяжки не так видны были.
Внизу засвистели. Кто-то захлопал. Людмила засмеялась — звонко, по-девичьи, будто не пятьдесят, а все те двадцать, когда я впервые увидел ее топлес на пляже в Юрмале.
Окно дрогнуло от порыва ветра. Она покачнулась. Мое сердце остановилось. Но ее рука вцепилась в раму, ноги устойчиво стояли на узком выступе — опыт танцовщицы, бросившей сцену ради семьи, но не забывшей уроки.
— Завтра в семь... — бросила она вниз, спрыгивая с подоконника. — Приходите с друзьями.
Проходя мимо, оставила на моем телефоне след — влажный от пота палец на экране. В коридоре зазвучал душ. А я остался стоять, глядя на запись, где моя жена улыбалась незнакомым пацанам, как когда-то мне...
Солнечный свет резал глаза, когда я прислонился к подоконнику спальни. Внизу, под раскидистой липой, толпились трое. Мальчишки — нет, уже юноши — в мятых футболках выпускников. Один, с гитарой за спиной, жестикулировал, показывая на наш этаж. Двое других закинули головы, как птенцы, ловящие дождевых червей. Узнал их мгновенно: Артём с асимметричным подбородком, Ваня-рыжий и тот самый Коля, что носил Людмиле букеты к каждому 8 Марта.
Гитара — чёрный корпус с царапиной в виде сердца. Вспомнил: Людка месяц назад ворчала, что ученик подарил разбитый инструмент. "Для атмосферы, говорит, на репетициях". Теперь эта царапина пылала на солнце, как стыдливый символ.
— Она же их педагог... — прошептал в пустоту, наблюдая, как Артём делает руками округлый жест, явно изображая грудь.
Из ванной донесся смех — хрустальный, девичий, каким он не звучал со времён её тридцатилетия. Потом шум воды сменился песней: "Ах, эти тучи в голубом..." Голос Людмилы, обычно строгий на родительских собраниях, теперь струился игриво, с придыханием.
Телефон в моей руке ожил. Мессенджер ученического чата:
"Коля: Вы гениальны, Людмила Викторовна!
Ваня: Это был лучший выпускной подарок!!
Артём: А завтра можно фотосессию? Для арт-проекта..."
Я провёл пальцем вверх. История Артёма в Instagram — десять минут назад. Кадр снизу вверх: Людмила на фоне неба, силуэт сквозь прозрачную занавеску. Подпись: "Муза не стареет".
— Нравится? — её голос заставил вздрогнуть.
Она стояла в дверях, обёрнутая в полотенце, которое держалось лишь на намокшей пряди волос. Капли воды стекали по ноге, исчезая в промежности.
— Это ведь... — я показал на телефон.
— Педагогический приём, — перебила, подходя ближе. Запах жасмина с примесью чего-то острого, животного. — Артём боялся выступать. Говорил, что тело — тюрьма.
Её рука легла мне на грудь, влажная, тяжёлая.
— Пришлось показать, что возрастные тела тоже... — пауза, губы у моего уха, — ...могут летать.
Внизу зазвенели струны. Артём играл "Чёрный кот" с похабными переиначенными словами: "А она сегодня в окне показала всем мечту..."
Людмила рассмеялась, резко дёрнув полотенце. Ткань упала на гитару внизу, вызвав восторженный визг.
— Завтра, — прошептала, прижимаясь мокрым животом к моей спине, — они придут с холстами. Буду позировать... как Афродита Книдская.
Её пальцы разжали мою ладонь, забирая телефон. Клики камеры, вспышка. Новый пост: моя спина, её рука на моём плече, полное отсутствие одежды.
Подпись: "Урок анатомии. Преподаватель и ассистент".
Внизу заголосили. Гитара заиграла лихорадочно. А Людмила уже вела меня к кровати, продолжая урок, начатый у окна...
"Урок Свободы"
Лето будило меня шепотом сквозь открытое окно. Я потянулась к простыне, ещё хранившей тепло Эдика, но его место было пусто. Хорошо. Так даже лучше.
Солнечные зайчики танцевали на стене, напоминая те софиты, что освещали меня двадцать лет назад. Тогда я парила на сцене, а не копошилась в школьных тетрадях. Сбросила одеяло, позволив утру обнять голое тело. Воздух ласкал кожу, как руки того пианиста из оркестра — робко, но с обещанием большего.
Голоса внизу заставили улыбнуться ещё до того, как я подошла к окну. Знакомый пересвист — три коротких, два длинных. Наш условный сигнал со времён репетиции выпускного. Артём всегда боялся, что его маман подслушает.
— Людмила Викторовна! — Коля, рыжий как лиса, задрал голову, чуть не роняя очки. — Вы ж обещали!
Я облокотилась о раму, зная, как свет играет на моих бёдрах. Их восторженный вздох был слаще аплодисментов.
— Ну что, гении? — крикнула, чувствуя, как сосочки напрягаются от ветра. — Ваша Афродита готова к эскизам?
Ваня что-то забормотал, роняя телефон. Артём нервно перебирал струны гитары. Милый. Всего месяц назад он краснел, показывая этюды обнажённой натуры. "Не могу, Людмила Викторовна, у меня мама в церковный хор ходит..."
— Расслабьтесь, — провела руками по животу, чувствуя растяжки под пальцами. — Это же искусство.
Шагнула на подоконник. Старая привычка — пятки на самом краю, как тогда в кордебалете. Ветер трепал волосы, смешивая запах шампуня с ароматом цветущих лип.
— Осторожно! — Коля простёр руки, будто мог поймать с третьего этажа.
Я рассмеялась, повернувшись к ним спиной. Знала, что Эдик наблюдает из щели двери. Его тяжёлое дыхание сливалось с шумом моего сердца.
— Анфас! Анфас! — загалдели пацаны.
Поворот в три такта, как учила хореограф Марина Львовна. Сначала профиль — грудь вверх, подбородок гордо. Потом разворот, рука через голову — чтобы показать линию бедра. Завершающий аккорд — ладонь на лобке, прикрывая седину, которую ещё не решалась окрасить.
— Богиня! — Артём заиграл что-то цыганское, страстное.
Эдик щёлкнул фотоаппаратом. Знаю, думал, что я не замечу. Дурак. Я специально выгнулась сильнее, позволив солнцу подсветить то, что обычно скрывала под блузками с бантами.
— Завтра в семь, — бросила вниз, ловя зубами прядь волос. — Приносите масло. Будем писать тело в движении.
Ваня ахнул, поняв намёк. Эти мальчишки всё ещё думали, что "движение" — это поза на диване. Покажутся ли они, когда увидят, как я обвиваюсь вокруг шеста, купленного для "оздоровительной гимнастики"?
Эдик ждал в спальне, красный как школьник, пойманный со списыванием. Его телефон дрожал в руках — там уже пылала моя фотография с подписью "Муза".
— Ты... ты же их учительница... — попытался ворчать, но взгляд бегал по моим бёдрам.
Я сняла с его шеи цепочку с якорем — подарок ко дню ВМФ. Провела холодным металлом по соску.
— Самый важный урок, Эдик. — Прижала его ладонь к своему животу. — Научить их видеть красоту... — Рука поползла ниже. — ...в каждом возрасте.
Он застонал, как тогда в Юрмале, когда я впервые разделась перед ним на пляже. Тот же смешок сквозь слёзы. Тот же трепет в пальцах.
Внизу зазвучала гитара. Артём выводил: "Ах, какая женщина, мне бы такую..."
Я повела Эдика к окну, заставив смотреть, как мальчишки рисуют мелом на асфальте — уродливые сердца, моё имя, цифру "25" (их наивная оценка моего возраста).
— Завтра они придут с холстами, — прошептала, чувствуя, как его член пульсирует у меня за спиной. — Ты подашь мне кофе... голый.
Его вдох стал резким. Страх? Возбуждение? Не важно. Завтра он наденет тот дурацкий фартук, который я купила на распродаже. А я научу своих учеников главному — тело пишет историю смелее любого холста.
Солнце поймало нас в объектив телефона, валявшегося на полу. На снимке мы выглядели молодыми. Или просто — свободными.
"Вид Снизу"
Гитара жгла спину мокрым пятном. Я прижал её к себе, будто щит, когда Людмила Викторовна появилась в окне. Не Людмила — оголённая молния, женщина из тех, что в кино целуют героинь под дождём, а не учат нас сольфеджио.
— Артём, смотри! — Коля ткнул меня локтем в бок, и струна ля минора впилась в палец. Боль смешалась с тем, что пульсировало ниже пояса.
Она стояла, облокотившись о раму, как та балерина с папиной зажигалки. Только вместо пачки — ничего. Грудь, которую я видел только под блузками с бантами, теперь колыхалась свободно. Соски — тёмные, крупнее, чем у Катьки из параллели, — напряглись от ветра.
"Мама бы убила... Святой Николай, прости..." — но ноги приросли к асфальту.
— Ну что, гении? — её голос спустился сверху, обжигая уши. — Ваша Афродита готова к эскизам?
Ваня захихикал, прикрыв рот. Я знал, что он дрочит на аниме-девочек, но сейчас его глаза бегали по её животу — мягкому, с растяжками, как у мамы после родов. Только мама не смеялась так, не проводила пальцами по этим серебристым линиям...
— Расслабьтесь, — она повернулась боком, и солнечный луч лизнул ягодицу. Мои джинсы стали тесными. "Нет-нет-нет, только не сейчас..."
Гитара заныла — я бессознательно перебирал струны. "Чёрный кот" превратился в похабный романс. Её нога приподнялась на подоконник, открывая розоватый просвет между бедер. Ваня ахнул, как дурак.
"Она же видит... Видит, как я смотрю..." — но Людмила Викторовна лишь улыбалась, будто мы решали задачу у доски. Помнил, как месяц назад она наклонилась над моим эскизом, и духи её смешались с запахом мела. Тогда я перекрестился украдкой.
— Завтра в семь, — бросила она, и капля пота скатилась по шее в ложбину между грудями. — Приносите масло.
Коля выронил телефон. Я представил, как это масло — тёплое, как июльское молоко, — стекает по её спине. Как мои пальцы растирают его по растяжкам, а она вздыхает, как тогда, когда хвалила мой этюд...
— Артёмка, сыграй! — Ваня толкнул меня, и аккорд прозвучал фальшиво.
Её смех рассыпался сверху, смешавшись с голосом из динамика. Обернулся — на балконе маячил её муж, тот моряк-алкаш. Он снимал нас, а Людмила... Людмила взяла его руку, прижала к своей груди.
"Чёрт, она же... с ним... при нас..." — но член не слушался, пульсируя в такт её движениям.
— Муза не стареет, — прошептал я, цитируя свою же глупую подпись в Instagram. В кармане ждал эскиз — она в платье Афродиты, которое вдруг стало прозрачным. Завтра покажу. Завтра...
Гитара заиграла сама — пальцы помнили то, что ум отказывался принимать. А она танцевала в окне, превращая наш восторг в краски, а стыд — в мазки на невидимом холсте.
Осень осторожно ступала по подоконнику, где теперь стояли горшки с хризантемами. Людмила поправляла шаль на плечах, наблюдая, как Артём разгружает мольберты из багажника подержанной «Лады». Его движения стали увереннее — больше не тот мальчик, что ронял телефон при виде её тени.
— Масло взял сандаловое, как вы просили, — он избегал смотреть ей в глаза, но его пальцы нервно перебирали кисти. — И... эскиз новый принёс.
На холсте она узнала себя — не богиню, а женщину. Морщины у глаз превратились в лучи, растяжки — в реки. В углу красовалась подпись: "Артём Соколов. 2025. Ученик и...".
Эдуард вышел на балкон, держа в руках две кружки. Его фартук "Лучший повар" съехал набок, обнажая седую грудь.
— Кофе? — спросил он у Артёма, и это прозвучало почти естественно.
Внизу, под липой, Ваня снимал на телефон жёлтый лист, кружащий в танго с ветром. Его блог уже пестрел хэштегами: #МузаОсени #ИскусствоПротивСтереотипов.
Людмила взяла кисть, обмакнула в тёплую охру. Первый мазок лег на холст — не её тело, а их троих. Эдуард с кофе, Артём с гитарой, она меж ними, обёрнутая в шаль как в дымку воспоминаний.
— Назовём "Урок анатомии", — сказала, и оба мужчины засмеялись — хрипло и звонко, как диссонанс, ставший аккордом. Где-то внизу упало яблоко, и лето окончательно отпустило город в объятия сентября.
Жара висела над городом плотным покрывалом, пропитанным ароматом перезрелых яблок и пыльных штор. Воздух дрожал, как струна перед разрывом.
Эдуард спал, краем уха слыша, как группа учеников жмётся под его липой. Их смех резал слух — слишком звонкий, слишком юный. В трусах возникла утренняя эрекция, будто пытаясь удержать то, что уже выскальзывало сквозь щели в ставнях.
Людмила распахнула окно спальни, впуская зной внутрь. Полотенце соскользнуло на пол, и она не стала поднимать. Сегодня утром зеркало показало ей не морщины, а карту былых побед — шрам от кесарева сечения как отметина смелости, растяжки как дороги к материнству. Внизу зашевелились тени. Она улыбнулась, проводя ладонью по животу: "Сколько им? Шестнадцать? Семнадцать? Возраст, когда страх пахнет потом и спермой..."
Артём поправил гитару на спине, чувствуя, как пот стекает по позвоночнику. Его кроссовки выписывали восьмёрки на асфальте — три шага к подъезду, два назад. Ваня толкнул его в бок, показывая на окно третьего этажа, где мелькнула тень. "Не она... Не может быть..." — но сердце уже колотилось в ритме, для которого не было нот.
Солнце полностью взошло, когда первый крик сорвался с чьих-то губ. Не восклицание — предвестник.
"Утренний спектакль".
Лето ворвалось в комнату тяжелым дыханием рассвета. Я потянулся к простыне, еще теплой от ее тела, но нашел только смятую подушку. За окном, сквозь шелест лип, доносились приглушенные возгласы — словно стайка воробьев затеяла перепалку. Прислушался:
— Глянь-ка, сиськи-то какие...
— Да она ж голая!
Смешок, приглушенный, но звонкий.
Сердце забилось чаще. Босые ступни коснулись прохладного паркета. Взял телефон — привычный рефлекс, будто собирался снимать котиков, а не...
В соседней комнате дверь приоткрыта. Полоска света лежала на темном полу, как лезвие. Подкрался, затаив дыхание.
Она стояла на подоконнике, спиной ко мне. Утреннее солнце обнимало ее тело золотыми лентами: подсвечивало рыжие волосы, струящиеся по спине, играло на округлостях ягодиц, задерживалось в ямочках над копчиком. Руки, поднятые для равновесия, подчеркивали изгиб талии — той самой, за которую я держался вчера, когда она стонала подо мной.
— Эй! Покажите анфас! — донеслось снизу.
Людмила повернулась медленно, будто танцуя стриптиз на краю пропасти. Грудь, отяжелевшая за годы, но все еще гордая, колыхалась в такт движению. Ее ладонь скользнула вниз по животу, остановилась на лобке, где рыжие кудряшки блестели, словно мокрые от росы.
— Офигеть... — чей-то сдавленный стон внизу.
Ее лицо, обычно бледное по утрам, пылало румянцем. Губы, припухшие — может, от укусов вчерашних? — растянулись в улыбке, которую я не видел годами. Точно так же она смеялась в наш медовый месяц, когда я снял с нее свадебное платье под крики чаек.
Телефон дрожал в руке. Я включил камеру, поймав в объектив:
— Тень ресниц на щеках
— Капли пота в ложбинке между грудями
— Мальчишку лет шестнадцати внизу, застывшего с открытым ртом
Она заметила движение. Повернула голову, поймала мой взгляд в дверной щели. Не испугалась. Не прикрылась. Наоборот — выгнулась сильнее, одной рукой сжимая грудь, другой касаясь клитора.
— Снимаешь, дорогой? — голос звучал хрипло, как после долгого курения. — Добавь фильтр... Чтобы растяжки не так видны были.
Внизу засвистели. Кто-то захлопал. Людмила засмеялась — звонко, по-девичьи, будто не пятьдесят, а все те двадцать, когда я впервые увидел ее топлес на пляже в Юрмале.
Окно дрогнуло от порыва ветра. Она покачнулась. Мое сердце остановилось. Но ее рука вцепилась в раму, ноги устойчиво стояли на узком выступе — опыт танцовщицы, бросившей сцену ради семьи, но не забывшей уроки.
— Завтра в семь... — бросила она вниз, спрыгивая с подоконника. — Приходите с друзьями.
Проходя мимо, оставила на моем телефоне след — влажный от пота палец на экране. В коридоре зазвучал душ. А я остался стоять, глядя на запись, где моя жена улыбалась незнакомым пацанам, как когда-то мне...
Солнечный свет резал глаза, когда я прислонился к подоконнику спальни. Внизу, под раскидистой липой, толпились трое. Мальчишки — нет, уже юноши — в мятых футболках выпускников. Один, с гитарой за спиной, жестикулировал, показывая на наш этаж. Двое других закинули головы, как птенцы, ловящие дождевых червей. Узнал их мгновенно: Артём с асимметричным подбородком, Ваня-рыжий и тот самый Коля, что носил Людмиле букеты к каждому 8 Марта.
Гитара — чёрный корпус с царапиной в виде сердца. Вспомнил: Людка месяц назад ворчала, что ученик подарил разбитый инструмент. "Для атмосферы, говорит, на репетициях". Теперь эта царапина пылала на солнце, как стыдливый символ.
— Она же их педагог... — прошептал в пустоту, наблюдая, как Артём делает руками округлый жест, явно изображая грудь.
Из ванной донесся смех — хрустальный, девичий, каким он не звучал со времён её тридцатилетия. Потом шум воды сменился песней: "Ах, эти тучи в голубом..." Голос Людмилы, обычно строгий на родительских собраниях, теперь струился игриво, с придыханием.
Телефон в моей руке ожил. Мессенджер ученического чата:
"Коля: Вы гениальны, Людмила Викторовна!
Ваня: Это был лучший выпускной подарок!!
Артём: А завтра можно фотосессию? Для арт-проекта..."
Я провёл пальцем вверх. История Артёма в Instagram — десять минут назад. Кадр снизу вверх: Людмила на фоне неба, силуэт сквозь прозрачную занавеску. Подпись: "Муза не стареет".
— Нравится? — её голос заставил вздрогнуть.
Она стояла в дверях, обёрнутая в полотенце, которое держалось лишь на намокшей пряди волос. Капли воды стекали по ноге, исчезая в промежности.
— Это ведь... — я показал на телефон.
— Педагогический приём, — перебила, подходя ближе. Запах жасмина с примесью чего-то острого, животного. — Артём боялся выступать. Говорил, что тело — тюрьма.
Её рука легла мне на грудь, влажная, тяжёлая.
— Пришлось показать, что возрастные тела тоже... — пауза, губы у моего уха, — ...могут летать.
Внизу зазвенели струны. Артём играл "Чёрный кот" с похабными переиначенными словами: "А она сегодня в окне показала всем мечту..."
Людмила рассмеялась, резко дёрнув полотенце. Ткань упала на гитару внизу, вызвав восторженный визг.
— Завтра, — прошептала, прижимаясь мокрым животом к моей спине, — они придут с холстами. Буду позировать... как Афродита Книдская.
Её пальцы разжали мою ладонь, забирая телефон. Клики камеры, вспышка. Новый пост: моя спина, её рука на моём плече, полное отсутствие одежды.
Подпись: "Урок анатомии. Преподаватель и ассистент".
Внизу заголосили. Гитара заиграла лихорадочно. А Людмила уже вела меня к кровати, продолжая урок, начатый у окна...
"Урок Свободы"
Лето будило меня шепотом сквозь открытое окно. Я потянулась к простыне, ещё хранившей тепло Эдика, но его место было пусто. Хорошо. Так даже лучше.
Солнечные зайчики танцевали на стене, напоминая те софиты, что освещали меня двадцать лет назад. Тогда я парила на сцене, а не копошилась в школьных тетрадях. Сбросила одеяло, позволив утру обнять голое тело. Воздух ласкал кожу, как руки того пианиста из оркестра — робко, но с обещанием большего.
Голоса внизу заставили улыбнуться ещё до того, как я подошла к окну. Знакомый пересвист — три коротких, два длинных. Наш условный сигнал со времён репетиции выпускного. Артём всегда боялся, что его маман подслушает.
— Людмила Викторовна! — Коля, рыжий как лиса, задрал голову, чуть не роняя очки. — Вы ж обещали!
Я облокотилась о раму, зная, как свет играет на моих бёдрах. Их восторженный вздох был слаще аплодисментов.
— Ну что, гении? — крикнула, чувствуя, как сосочки напрягаются от ветра. — Ваша Афродита готова к эскизам?
Ваня что-то забормотал, роняя телефон. Артём нервно перебирал струны гитары. Милый. Всего месяц назад он краснел, показывая этюды обнажённой натуры. "Не могу, Людмила Викторовна, у меня мама в церковный хор ходит..."
— Расслабьтесь, — провела руками по животу, чувствуя растяжки под пальцами. — Это же искусство.
Шагнула на подоконник. Старая привычка — пятки на самом краю, как тогда в кордебалете. Ветер трепал волосы, смешивая запах шампуня с ароматом цветущих лип.
— Осторожно! — Коля простёр руки, будто мог поймать с третьего этажа.
Я рассмеялась, повернувшись к ним спиной. Знала, что Эдик наблюдает из щели двери. Его тяжёлое дыхание сливалось с шумом моего сердца.
— Анфас! Анфас! — загалдели пацаны.
Поворот в три такта, как учила хореограф Марина Львовна. Сначала профиль — грудь вверх, подбородок гордо. Потом разворот, рука через голову — чтобы показать линию бедра. Завершающий аккорд — ладонь на лобке, прикрывая седину, которую ещё не решалась окрасить.
— Богиня! — Артём заиграл что-то цыганское, страстное.
Эдик щёлкнул фотоаппаратом. Знаю, думал, что я не замечу. Дурак. Я специально выгнулась сильнее, позволив солнцу подсветить то, что обычно скрывала под блузками с бантами.
— Завтра в семь, — бросила вниз, ловя зубами прядь волос. — Приносите масло. Будем писать тело в движении.
Ваня ахнул, поняв намёк. Эти мальчишки всё ещё думали, что "движение" — это поза на диване. Покажутся ли они, когда увидят, как я обвиваюсь вокруг шеста, купленного для "оздоровительной гимнастики"?
Эдик ждал в спальне, красный как школьник, пойманный со списыванием. Его телефон дрожал в руках — там уже пылала моя фотография с подписью "Муза".
— Ты... ты же их учительница... — попытался ворчать, но взгляд бегал по моим бёдрам.
Я сняла с его шеи цепочку с якорем — подарок ко дню ВМФ. Провела холодным металлом по соску.
— Самый важный урок, Эдик. — Прижала его ладонь к своему животу. — Научить их видеть красоту... — Рука поползла ниже. — ...в каждом возрасте.
Он застонал, как тогда в Юрмале, когда я впервые разделась перед ним на пляже. Тот же смешок сквозь слёзы. Тот же трепет в пальцах.
Внизу зазвучала гитара. Артём выводил: "Ах, какая женщина, мне бы такую..."
Я повела Эдика к окну, заставив смотреть, как мальчишки рисуют мелом на асфальте — уродливые сердца, моё имя, цифру "25" (их наивная оценка моего возраста).
— Завтра они придут с холстами, — прошептала, чувствуя, как его член пульсирует у меня за спиной. — Ты подашь мне кофе... голый.
Его вдох стал резким. Страх? Возбуждение? Не важно. Завтра он наденет тот дурацкий фартук, который я купила на распродаже. А я научу своих учеников главному — тело пишет историю смелее любого холста.
Солнце поймало нас в объектив телефона, валявшегося на полу. На снимке мы выглядели молодыми. Или просто — свободными.
"Вид Снизу"
Гитара жгла спину мокрым пятном. Я прижал её к себе, будто щит, когда Людмила Викторовна появилась в окне. Не Людмила — оголённая молния, женщина из тех, что в кино целуют героинь под дождём, а не учат нас сольфеджио.
— Артём, смотри! — Коля ткнул меня локтем в бок, и струна ля минора впилась в палец. Боль смешалась с тем, что пульсировало ниже пояса.
Она стояла, облокотившись о раму, как та балерина с папиной зажигалки. Только вместо пачки — ничего. Грудь, которую я видел только под блузками с бантами, теперь колыхалась свободно. Соски — тёмные, крупнее, чем у Катьки из параллели, — напряглись от ветра.
"Мама бы убила... Святой Николай, прости..." — но ноги приросли к асфальту.
— Ну что, гении? — её голос спустился сверху, обжигая уши. — Ваша Афродита готова к эскизам?
Ваня захихикал, прикрыв рот. Я знал, что он дрочит на аниме-девочек, но сейчас его глаза бегали по её животу — мягкому, с растяжками, как у мамы после родов. Только мама не смеялась так, не проводила пальцами по этим серебристым линиям...
— Расслабьтесь, — она повернулась боком, и солнечный луч лизнул ягодицу. Мои джинсы стали тесными. "Нет-нет-нет, только не сейчас..."
Гитара заныла — я бессознательно перебирал струны. "Чёрный кот" превратился в похабный романс. Её нога приподнялась на подоконник, открывая розоватый просвет между бедер. Ваня ахнул, как дурак.
"Она же видит... Видит, как я смотрю..." — но Людмила Викторовна лишь улыбалась, будто мы решали задачу у доски. Помнил, как месяц назад она наклонилась над моим эскизом, и духи её смешались с запахом мела. Тогда я перекрестился украдкой.
— Завтра в семь, — бросила она, и капля пота скатилась по шее в ложбину между грудями. — Приносите масло.
Коля выронил телефон. Я представил, как это масло — тёплое, как июльское молоко, — стекает по её спине. Как мои пальцы растирают его по растяжкам, а она вздыхает, как тогда, когда хвалила мой этюд...
— Артёмка, сыграй! — Ваня толкнул меня, и аккорд прозвучал фальшиво.
Её смех рассыпался сверху, смешавшись с голосом из динамика. Обернулся — на балконе маячил её муж, тот моряк-алкаш. Он снимал нас, а Людмила... Людмила взяла его руку, прижала к своей груди.
"Чёрт, она же... с ним... при нас..." — но член не слушался, пульсируя в такт её движениям.
— Муза не стареет, — прошептал я, цитируя свою же глупую подпись в Instagram. В кармане ждал эскиз — она в платье Афродиты, которое вдруг стало прозрачным. Завтра покажу. Завтра...
Гитара заиграла сама — пальцы помнили то, что ум отказывался принимать. А она танцевала в окне, превращая наш восторг в краски, а стыд — в мазки на невидимом холсте.
Осень осторожно ступала по подоконнику, где теперь стояли горшки с хризантемами. Людмила поправляла шаль на плечах, наблюдая, как Артём разгружает мольберты из багажника подержанной «Лады». Его движения стали увереннее — больше не тот мальчик, что ронял телефон при виде её тени.
— Масло взял сандаловое, как вы просили, — он избегал смотреть ей в глаза, но его пальцы нервно перебирали кисти. — И... эскиз новый принёс.
На холсте она узнала себя — не богиню, а женщину. Морщины у глаз превратились в лучи, растяжки — в реки. В углу красовалась подпись: "Артём Соколов. 2025. Ученик и...".
Эдуард вышел на балкон, держа в руках две кружки. Его фартук "Лучший повар" съехал набок, обнажая седую грудь.
— Кофе? — спросил он у Артёма, и это прозвучало почти естественно.
Внизу, под липой, Ваня снимал на телефон жёлтый лист, кружащий в танго с ветром. Его блог уже пестрел хэштегами: #МузаОсени #ИскусствоПротивСтереотипов.
Людмила взяла кисть, обмакнула в тёплую охру. Первый мазок лег на холст — не её тело, а их троих. Эдуард с кофе, Артём с гитарой, она меж ними, обёрнутая в шаль как в дымку воспоминаний.
— Назовём "Урок анатомии", — сказала, и оба мужчины засмеялись — хрипло и звонко, как диссонанс, ставший аккордом. Где-то внизу упало яблоко, и лето окончательно отпустило город в объятия сентября.
Мой первый рассказ
Подлянка
Вы можете проголосовать за публикацию как десять пользователей по 1 (одному) баллу, что существенно понизит публикацию в общем рейтинге
Стоимость 5 пик
Вы можете проголосовать за публикацию как десять пользователей по 1 (одному) баллу, что существенно понизит публикацию в общем рейтинге
Стоимость 5 пик
Поддержка
Вы можете проголосовать за публикацию как десять пользователей по 10 (десять) баллов, что существенно повысит публикацию в общем рейтинге
Стоимость 5 пик
Вы можете проголосовать за публикацию как десять пользователей по 10 (десять) баллов, что существенно повысит публикацию в общем рейтинге
Стоимость 5 пик
Комментарии